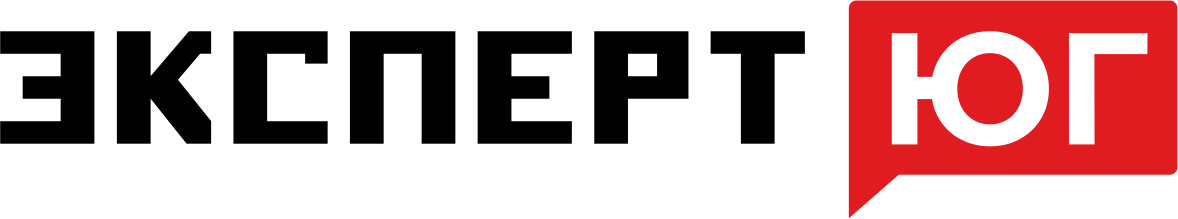Поделиться
вопросы для этих героев всё-таки оказываются главными. Проза Гуцко — редкая для сегодняшнего этапа развития литературы проза, в центре которой — рефлексирующий герой. Это может отпугивать, но этого как раз сейчас не хватает — поскольку рефлексировать есть о чём.
— Роман был сначала опубликован в журнале «Дружба народов», а потом уже в переработанном виде вышел книгой. Зачем понадобилась переработка и чего она коснулась?
— Я собирался доработать мелочи, вылизать текст. Например, в журнале Антон был племянником министра, а в книге стал сыном. Можно назвать эту правку технической. Таким образом я избавился от необходимости вводить линию отца этого героя. Не хотелось делать это мимоходом, для галочки, но
и утяжелять роман не хотелось тоже. Сюжетная канва осталась прежней. А потом я получил на руки внутреннюю рецензию издательства — она была очень жёсткой. Анафема, а не рецензия. При этом книгу уже приняли к печати, рецензия ничего не решала. Но она оказалась очень полезна для меня лично. Это был такой удар в челюсть, который, если перетерпишь, помогает собраться. Правок в результате было гораздо больше, чем мне предлагалось, — потому что одно цепляет другое, эффект домино… Я начал переписывать диалоги, сцены. И оставались считанные дни на доработку. Непосредственно перед сдачей в печать я работал 38 часов подряд с перерывами только на кофе и бутерброды. Это, кстати, для меня характерно. Я видимо, нормально функционирую только тогда, когда жизнь загоняет меня в угол. Я и начинал-то писать в таком состоянии — работая охранником и понимая, что вот он — тупик. И сейчас схожая, в общем, ситуация — я ушёл с журналистской работы, чтобы нормально писать, быстро понял, что фрилансом зарабатывать очень тяжело — и тут получаю беспощадную критику на то, чем я занимался последние два года.
Конец литературоцентричной России
— Может, просто не все читатели принимают то, что ты делаешь? У тебя ведь свой тип героя, своя поэтика. Вообще есть в современной литературе нечто, чему ты пытаешься противостоять своими книгами?— Противостоять? Может быть, упрощению. Оно сегодня характерно даже для нашей интеллектуальной литературы. Там тоже сплошь и рядом предлагаются заведомо упрощённые ответы: нам плохо, потому что нас угнетает гэбэшная власть, потому что коррупция — ну и далее по списку. Всё это полуправда, от которой никогда ничего не родится, более того — это форма самоуспокоения, попытка удовлетвориться примитивным объяснением. Нам плохо, потому что это мы такие – вот такие, как есть – потому что на большее неспособны. И если говорить о России образованной, о России культурной – то ведь именно мы впадаем в самые непростительные упрощения. У нас если либерализм, то — до полного беспамятства. Если мы берёмся отстаивать левую идею, то моментально доходим до реабилитации сталинизма. И вероятность не то что договориться, но хотя бы обсудить на подобающем уровне, без истерик в жанре «Пусть говорят» – равна нулю. Полагаю, мы пожинаем плоды прежней литературоцентричной России. Вот для матери главного героя в романе литература была религией, когда писатели превращаются в пророков, которые учат, как жить. Именно литературоцентризм – сакрализация литературы – сформировал поколение, которое оказалось падко на идеологическую схематичность. Помните, в девяностые, после советской «Правды» и «Комсомолки», появилась пресса, которая заговорила вдруг человеческим языком. И самая читающая страна моментально отвернулась от книги, чтобы присягнуть газете. Какого качества была пресса в девяностые, это отдельная история. Одним словом, человеку, выросшему в литературоцентричной среде, очень просто принять чьё-то умствование за истину в последней инстанции. У таких истин, вычитанных и принятых как откровение, страшный финал. Рано или поздно они превращаются в банальность. Что мы и видим. Огромный корпус классических текстов, в которых, конечно же, всего хватает: истины, заблуждений, а главное, трудного искреннего поиска, – для большинства читателей давным-давно свёлся к набору штампов – про народ-богоносец, про всемирную отзывчивость и прочее. Вот это вызывает у меня острое неприятие.
— Литературоцентричная Россия — это ещё наша реальность?
— Литературоцентричная Россия погибла, писатель в литературе больше не пророк. Кому как, а я скажу: и слава Богу. Умерла, так умерла. Мне вполне комфортно в этой ситуации — может быть, потому, что сам я на пророка не тяну. Да и то сказать, здоровье дороже. Это ж какая нагрузка — вспомнить хотя бы Льва Николаевича, его три дневника: дневник, тайный дневник, «для одного себя». А несчастную жену его? Он женился на блестящей, образованной, начитанной барышне, которая за словом в карман не лезла — и в кого она превратилась? В истеричку, которая по нескольку раз в неделю бегала к пруду топиться. Всё это – следствия того самого статуса пророка. У Шаламова есть убийственное определение, которое он адресовал Солженицыну: «пророческая деятельность»…
Шанс для бета-самца
— В какой момент во время работы над последней вещью у тебя в качестве метафоры возник центральный образ — бета-самец?— Долгое время у меня не было названия, только рабочее – «Зинаида», абсолютно мёртвое. И однажды я узнал о конкурсе «Слово года», который проводил известный лингвист Михаил Эпштейн. Я участвовал в этом конкурсе, предложил слово «клептократия». Там мелькнуло это слово, «бета-самец», и я сразу понял: вот же название. Мы с редактором хотели подготовить справку с разъяснением о том, что такое бета-самец, но оказалось, что нормальной формулировки нигде нет. Я вышел на сайт какого-то американского университета, где были описаны опыты учёных с крысами. И там я вычитал интересную вещь: оказывается, когда у крыс либо изымают альфа-самца, либо он умирает, бета-самец никогда не занимает его место, никогда не становится альфа-самцом. Вожаком становится самое малозначимое и незаметное животное — какой-нибудь омега. Но всё это появилось гораздо позже самой метафоры, с самого начала это была история, в которой герой довольствуется тем, что он подстроен под кого-то, который доволен своим благоденствием, но при этом зависим.
— Важно было почувствовать состояние второго? Не предпоследнего, а находящегося именно на второй ступени?
— Конечно, ведь у каждого бета-самца всегда есть свой шанс превратиться в альфу, в истории много примеров. Но опыты с крысами показывают, что быть вторым – это записано в подкорке. Ты второй номер не потому, что так сложилось, а потому, что это предопределено. И по-настоящему первыми бета-самцы так никогда и не становились. Для многих из нас, и особенно представителей образованного класса, эта история – кошмарная реальность, а не отвлечённая метафора. Мы задыхаемся в сегодняшней клановой России, нам не нравится очередной ремейк страны рабов, страны господ, мы знаем, что наши дети вырастут, получат блестящее образование, три языка будут знать, но они придут работать, и у них будет начальник, который просто чей-то племянник, чей-то сын. И мы заранее приняли это. А пар можно спустить в Фейсбуке, как когда-то на кухне… Важно и то, что я пишу о провинции. Не о тихом маленьком городе вроде Вологды, например, где провинциализм может давать ощущение корней, истоков, а о такой тяжёлой его форме, как провинциальный город-«миллионник». Это глубоко нездоровое пространство, особый воспалённый мир. По крайней мере, в Ростове это бросается в глаза. Сочетание столичных понтов и абсолютно серого пространства — душного, замусоренного, пыльного.
— А любой человек, который пытается выстроить свой автономный мир, неизбежно оказывается в роли второго, отказываясь от чего-то важного?
— Я писал о конкретной категории людей: успешных, сытых, чего-то достигших в жизни, обеспечивших детей, возможно. Но при этом под кого-то подстроившихся. Их немало — поступившихся чем-то важным, это целая страна внутри страны. Они набрали жирка и отяжелели, они боятся всего, боятся хлопнуть дверью. Не осталось той лёгкости, готовности рискнуть, которая была у многих в девяностые. История бета-самцов, кстати, — во многом история нашего бизнеса.
— С крысами суть в том, что бета-самец не может стать первым. А когда ты говоришь об обществе, ты тоже убеждён, что это тупик, что второй обречён быть зависимым?
— Нет, конечно, метафора – не приговор. У человека всегда есть возможность переломить ситуацию. Завтра можно развернуться и попробовать начать с нуля. Объективно все это могут. А с точки зрения генетики — шансов нет. Это вообще хороший вопрос: крысы мы или нет?
— Но всё-таки те, кто на вторых ролях, часто являются носителями ценностей, потому что альфа-самцы совсем не рефлексируют по поводу выбора своей роли.
— Да, вторые – это очень интересная категория. В них заложен огромный потенциал, широкая вилка возможностей и сюжетов, которые могли бы быть реализованы. Даже сама их рефлексия интереснее, чем у альфа-самцов, в которых вложена программа побеждать, получать — и они не могут иначе.
— А почему история бета-самца – это во многом история нашего бизнеса? По твоей логике, получается, что бизнес скорее делают альфа-самцы?
— В бизнесе и такие, и эдакие, разумеется, есть. Но реальная конкуренция у нас как дожди в прогнозах Гидрометцентра – «местами»: здесь есть, а там уже нет, там свои люди, другие правила. Зачастую не важно, насколько ты хорош как предприниматель, важно знать, в какой кабинет заносить. И конкуренция часто проходит совсем не в экономических сферах. Первое, что приходит на ум в качестве аргумента: история непотопляемого «Донинвеста». Те альфа-самцы, которые состоялись в девяностые и встроились в систему – а встроилось подавляющее большинство, последних невстроившихся вроде Чичваркина перемалывает на наших глазах – их лавры блёкнут из-за того, что они действуют в тепличных условиях. Сегодня альфа-самцы от бизнеса играют мускулами в заповедниках. Раздирают каких-то специально подобранных ланей, которых им привозят спецрейсами на завтрак. Вся их уверенность в себе и мощь недорого стоят. Неизвестно куда они денутся, когда всё это рухнет.
— А зачем надо было совершенно узнаваемый Ростов называть в романе Любореченском?
— Какая-то отстранённость должна быть. По крайней мере, мне она нужна. Потом, это даёт широту маневра. Всё-таки вымышленный город может быть именно таким, какой нужен для твоей истории. К тому же, Любореченск — это задел на будущее, это любой южный город. Буду про него и дальше писать.
Новый невосторженный читатель
— Недавно в журнале «Знамя» вышла твоя заметка, основной тезис которой состоит в том, что современные писатели не описывают тех героев, которые существуют в реальной жизни. Проблема в том, что героев нет, или в том, что писатели своего дела не делают?— Это не совсем тот вывод, которого я ожидал. Бывает так, что героя попросту не видишь. Ну вот все глаза проглядел, а его всё нет. Сегодня не то, что в XIX веке, когда можно было пальцем ткнуть и попасть в готового героя, яркого персонажа. Главный тезис, который я пытался изложить – о том, что писать без героя трудно чисто технически. Вот есть некая тема, пласт, который ты берёшься разработать, но если у тебя нет героя, то ничего не выйдет. Герой и есть тот инструмент, которым ты этот пласт разрабатываешь. Да, есть другие техники, которые я упоминал в той заметке. Но без героя писать сложно, я вот не умею.
— Как ты отвечаешь для себя на вопрос о собственном читателе? Сегодня есть ощущение, что понятная аудитория сложилась только у литературных суперзвёзд и интернет-графоманов.
— Наверное, прежде всего писатель пишет для себя. Это всё-таки призвание. Или проклятие. Как посмотреть. Читающих людей арифметически стало меньше, но они не вымерли. Да, сократилось количество «запойных» читателей. Я, кстати, сам был таким в юности. Повторюсь: и слава Богу, что стало меньше тех, кто готов пасть ниц и провозгласить писателя пророком. Теперешние читатели — наверное, первое поколение, которое по-настоящему не верит в восторженность, не склонно к экзальтации, оно, по совету Карла Маркса, всё подвергает сомнению. Оно ко всему относится с иронией. Ведь ирония – это спасительный рефлекс. Это то, что сегодня во многом нас спасает, потому что без неё смотреть на российскую историю хождения по кругу, повторения в комичных формах того, о чём давно нужно было сделать выводы и пресечь, — невозможно. Увы, лечение иронией имеет и побочные эффекты. И пока неясно, как мы будем с ними справляться. Я вот не представляю, как мой сын прочитает Толстого или Достоевского. Ведь у Достоевского, например, есть столько всего, на что можно излить эту иронию — и в стилистике, и в определённой бульварности сюжетов. Мы-то прощали ему это и видели в нём громадные, глубокие, точные вещи. Можно и нужно спорить с великими. Чтобы самим не мельчать. Но если спорить с Достоевским, то это спор очень высокого уровня, это не то же самое, что спорить, скажем, с Радзинским. Вообще, я с большим интересом и тревогой ожидаю, как новое поколение прочитает классику. Оно пока не очень-то делится своими впечатлениями.
— Чтобы написать этот роман, ты ушёл с работы в газете. Как ты считаешь, сегодня писательство может быть профессией?
— Место писателя в современном мире вполне приличное. Это человек, который в большей степени на равных с читателем, чем был в XIX веке, в XVIII. Для такого читателя, кстати, труднее писать. Перечитайте, например, «Бедную Лизу» Карамзина. Сегодня за такой набор банальностей и пошлостей затопчут насмерть. Возможность «стать писателем» есть у каждого, другое дело, что не каждый сможет зарабатывать на этом, если он не суперзвезда. Сегодня гонорар за книгу – это месячная зарплата менеджера среднего звена в банке. Есть различные премии, гранты — но невозможно написать хорошую книгу, думая, как нужно писать, чтобы отхватить премию. Но главное, литература не закончилась, в ней рождается много хороших текстов — и читатели у них есть.