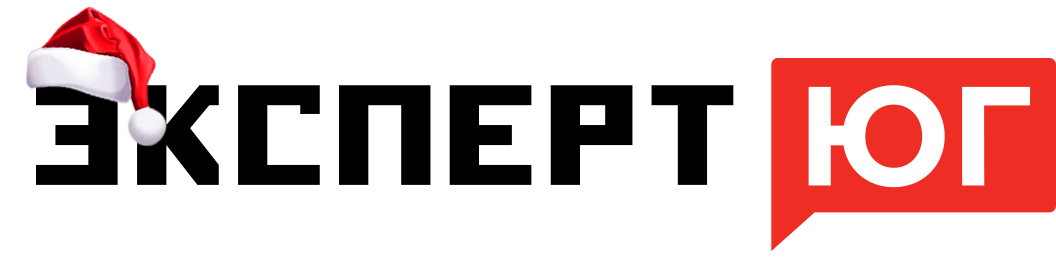Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, не так давно представленная общественности, совпала с годовщиной Октябрьской революции — и не зря. Похоже, уже в скором будущем само словосочетание «Октябрьская революция» вслед за отменой соответствующего праздника окончательно уйдёт в прошлое: в будущих школьных учебниках революцию 1917 года предлагается рассматривать как один процесс. По сути, решение верное — привычное разделение на Февраль и Октябрь есть не более чем отражение марксистско-ленинской теории революции, от которой серьёзные учёные давно отказались. Другое дело, получит ли сегодняшняя школа новое представление о механизмах возникновения и развития революций?
Все, кто ещё застал школу советскую, конечно же, помнят классическую формулу революционной ситуации про «верхи не могут, низы не хотят». Марксизм-ленинизм сводил революции к деятельности народных масс и видел в них исключительно классовое содержание, отсюда и пресловутое разделение: Февраль — буржуазно-демократическая революция, Октябрь — социалистическая, пролетарская. В западной науке тем временем использовались более тонкие «настройки». Как сказал один британский историк об английской революции XVII века, революция, конечно, была буржуазной — другое дело, что буржуазия была по обе стороны баррикад.
Появление в последней четверти прошлого века немарксистской теории революций по праву может считаться гордостью нового, основанного на достижениях социологии подхода к описанию истории. Авторы этой теории, английские и американские учёные Майкл Манн, Джек Голдстоун, Теда Скочпол и другие, перенесли акцент с активности народных масс на процессы, происходящие в элитах. Обобщение громадного эмпирического материала показало, что для революции требуется сочетание трёх условий: раскол внутри элит (1) усугубляется в ситуации фискального кризиса (2), а при добавлении к этому внешнеполитических неудач (3) революционная ситуация становится неизбежной, после чего, собственно, и начинается мобилизация масс. Но суть революции оказывается не классовой — в новой теории она понимается прежде всего как распад государства.
Именно эти процессы мы и наблюдаем в 1917 году, хотя на самом деле их отсчёт надо начинать с осени 1915-го. Раскол элит — образование оппозиционного Прогрессивного блока в Четвёртой думе, отъезд царя в Ставку и последующая министерская чехарда на фоне распутинщины. Фискальный кризис — галопирующая инфляция, утрата правительством контроля над быстро богатеющей деревней (продразвёрстку ведь придумали не большевики, а предпоследний царский премьер Штюрмер) и почти полный крах экономики к началу 17-го года. Внешнеполитические неудачи — «великое отступление» 1915-го, после которого Брусиловский прорыв следующего лета выглядел лишь тактическим успехом. Так что февральское восстание в Петрограде заинтересованным лицам оставалось лишь правильно использовать. И не в «ширнармассах» тут, конечно, дело, а в амбициях думской контрэлиты, которая за несколько последующих месяцев продемонстрировала всю свою бездарность и безответственность, что, в конечном итоге, и привело к власти большевиков. Троцкий был, несомненно, прав, отправляя эсеров и меньшевиков, ещё вчера находившихся в составе Временного правительства, на свалку истории — ничего иного в октябре 17-го они не заслуживали.
И вот здесь начинается самое интересное: эта же теория прекрасно применима и к ряду других поворотных моментов российской истории — в первую очередь к событиям рубежа 1980–90-х, которые также можно интерпретировать как новый революционный цикл. Раскол элит — Горбачёв против Ельцина, коммунисты против «демократов». Фискальный кризис — падение мировых цен на нефть, потянувшее в пропасть советскую экономику. Внешнеполитические поражения — вывод войск из Афганистана и позорная серия переговоров Горбачёва с Рейганом. Как результат — распад государства, последствия которого далеко не преодолены.
Но чтобы представить в школьном учебнике именно такую концепцию отечественной истории, требуется немалая политическая воля — умиротворяющие реплики академиков, что не надо политизировать историю, неубедительны. Пора давно забыть о классической установке на рассказ истории, «как оно было на самом деле», потому что история всегда создаётся в контакте с настоящим. И здесь неприемлемы рассуждения в стиле «и нашим, и вашим», когда, скажем, убираются крайности типа «СССР — империя зла», но остаются в неприкосновенности догматические ярлыки типа «тоталитаризма».
Впрочем, выход из концептуального тупика есть. Когда российская власть провозглашала курс на укрепление государственности, как-то позабыли о том, кто является подлинным основателем того государства, в котором мы сейчас живём (разумеется, со всеми необходимыми уточнениями). Это — Владимир Ильич Ленин, фигура, безусловно, отмеченная иронией истории. Вряд ли, сочиняя в легендарном шалаше книгу «Государство и революция», где провозглашалась отмена грядущей революцией всяческого государства, Ильич предполагал, что всего через несколько месяцев ему придётся заняться как раз государственным строительством. Однако же получилось вполне неплохо — многие структуры нынешней российской государственности заложены ещё Октябрем. К тому же Ленин, в отличие от Сталина, не вызывает у сторонников разных взглядов на российскую историю желания спорить до исступления. «Национальному самосознанию требуются сильные объединяющие личности, историческая память всегда ищет героев, — пишет великий американский социолог Иммануил Валлерстайн. — И тут, осмелюсь предположить, у Ленина на родине найдётся мало реальных соперников». Остаётся только принять его фигуру за точку отсчёта современной российской истории — благо, памятники Ильичу у нас остались почти везде. Это, по меньшей мере, даст нам понимание того, откуда мы идём. А там, глядишь, появится и понимание, куда.