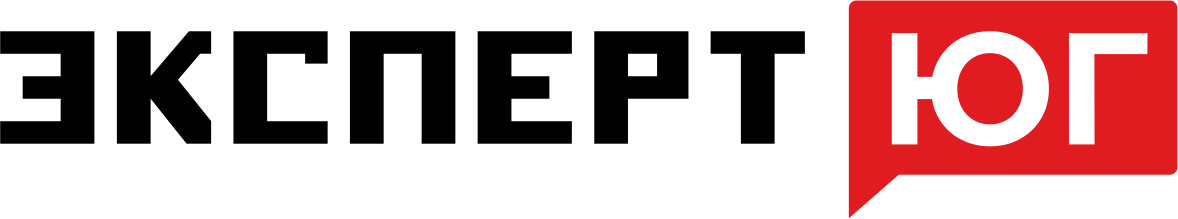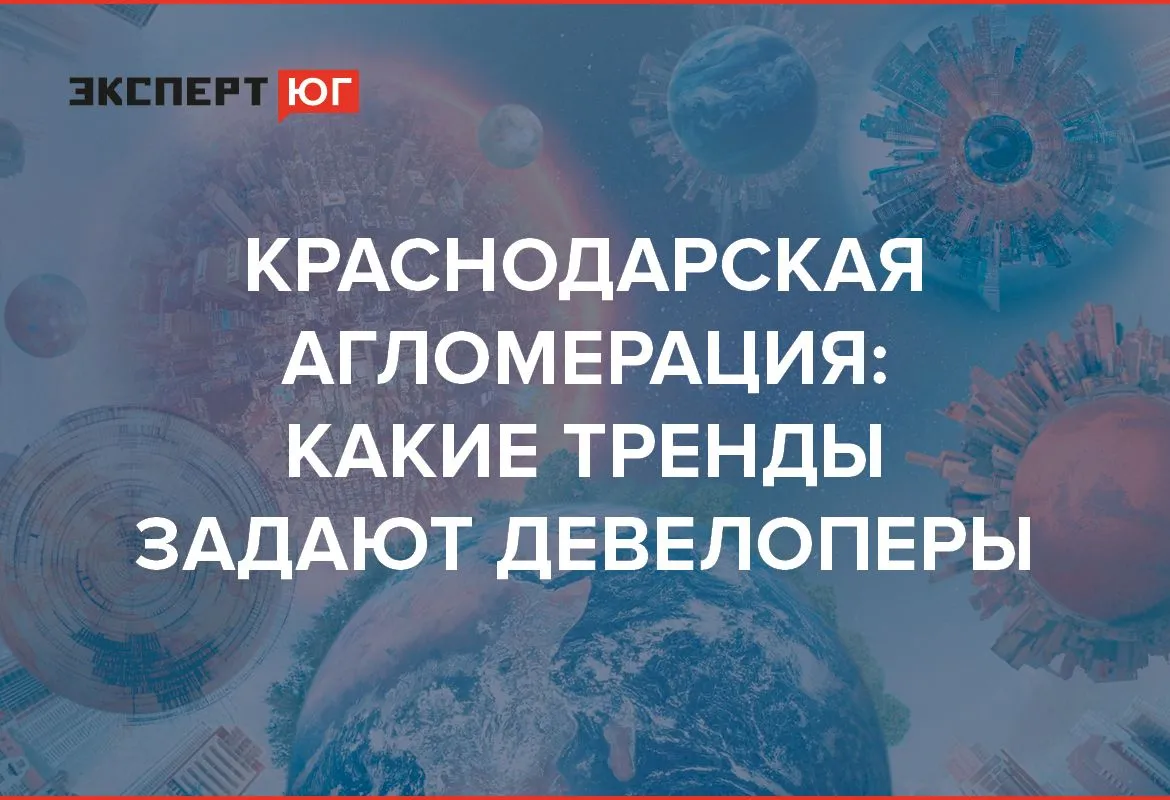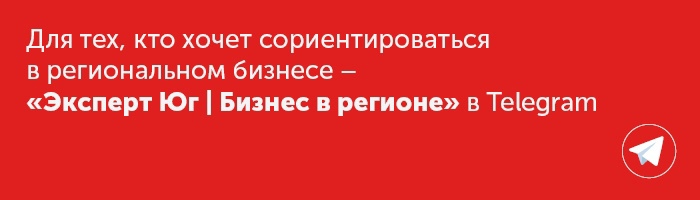Ольга и Сергей Басовы, соучредители «Топ Грейн», в ростовском офисе своей компании // Фото здесь и далее: «Эксперт Юг»
Поделиться
Ольга Басова: Снижение объемов экспорта в начале нового сезона — результат множества факторов. Первый из них — глобальное снижение урожая в экспортно-ориентированных регионах Юга России — Ростовской области и Краснодарском крае. В других регионах, где с урожаем всё нормально, — например, Ставрополь — наоборот, задержалась уборка в связи с дождями. Поэтому в начале сезона, когда исполнялись фьючерсные контракты, сроки поджимали, а зерно оказалось логистически удаленным от портов. Мы видим, что на глобальном зерновом рынке пока сложился положительный баланс, то есть нехватки сырья не наблюдается. Локальный неурожай и хороший баланс глобального рынка определяют цену.
Сергей Басов: У нас сложилась тяжелая ситуация в сфере логистики. Урожай в этом сезоне нужно доставить к портам из более далеких регионов, это давит на цену перевозки. В порту «Кавказ» скапливаются большие очереди судов. Сильно выросли ставки фрахта, поскольку, если раньше суда делали 2-3 рейса в месяц, то сейчас – максимум один. При этом под санкциями оказались большие новые теплоходы «река-море», теперь они могут работать только по реке. При этом введены обязательные досмотры судов пограничными службами – они могут занимать до 10 дней. Некоторые крупные компании сейчас даже пытаются заявить в Торгово-промышленную палату о форс-мажоре, потому что в связи с возникшей ситуацией из-за этих долгих простоев не могут исполнить контракт. В целом цена логистики выросла вдвое за последние два месяца. Но к этому, конечно, были предпосылки, все специалисты в отрасли понимали, что это случится.Сейчас все работают в условиях невысокого спроса и низкой маржинальности как для сельхозпроизводителей, так и для экспортеров. Думаю, что рынок сбалансируется, потому что в такой ситуации как-то надо будет договариваться.
— А в текущих условиях вообще реалистично зарабатывать? Чем в такие моменты определяется конкурентоспособность компании?
Ольга Басова: Экспорт – это не настолько маржинальный бизнес, в основном заработки идут за счет объема. Чтобы зарабатывать в текущих условиях, экспортные компании должны иметь резервы – резервы собственных средств, какие-либо страховые механизмы, накопления, которые позволят выдержать давление неблагоприятных факторов. Мы двадцать лет на рынке, и можем сказать, что далеко не каждый сезон способствует большим заработкам. И когда случился вот этот коллапс, мы вместе с другими игроками попали в ситуацию, когда мы были вынуждены делать отгрузки в убыток, но за счет резервов, мы сумели остаться на плаву. Резервы – это не только собственные средства. Например, у нас есть на всякий пожарный случай своя небольшая автоколонна, которая нам позволяет на пределе рентабельности вывозить свои объемы.

Поделиться
— А как поменялись позиции российского зерна на мировом рынке? Насколько серьезными были изменения после 2022 года?Сергей Басов: География поставок в последнее время изменилась, и наши трейдеры смогли к этому адаптироваться. Если раньше было очень много Европы — Италии, например, закупавшей твердую пшеницу, Испании, Бельгии, — то сейчас мы вышли на рынки Туниса, Алжира, Бангладеша, Пакистана, Индии. Мы адаптировались, объемы даже выросли, но рынок полностью сменился. В этой ситуации наша страна хорошо сработала, государство очень здорово помогает. Быстро были созданы миссии в наших дружественных странах, появились атташе. Это очень полезная работа, мы практически каждый день участвуем в каких-то бизнес-миссиях, общаемся, получаем информацию о том, кто, что и как покупает. Российский экспортный центр и Агроэкспорт (Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России – ред.) – две созданные государством структуры, которые оказывают реальную помощь.
— Есть мнение, что экспортные пошлины не дают экспортировать большому количеству производителей — насколько это острая проблема?
Ольга Басова: Сегодня экспортная пошлина почти равна нулю, но в тот период, когда была высокая мировая цена, пошлины, конечно, очень сильно снизили рентабельность производителей. В этом году добавились неблагоприятные погодные условия. То есть в те сезоны, когда производитель мог накопить запасы, из-за введения пошлин такого накопления не произошло. Здесь я бы тоже поставила проблему резервов. Наличие рыночной устойчивости предполагает резервирование либо страхование. Надо развивать либо те, либо другие механизмы. То есть, если вводится система пошлин, значит параллельно должны вводиться механизмы страхования и поддержки. В противном случае снижение рентабельности будет ввести к тому, что мы будем снижать производство. При этом подошла ситуация, когда необходима модернизация сельхозпроизводства, внедрение новых технологий, в том числе связанных с искусственным интеллектом. Конечно, чтобы это все внедрять, сельхозпроизводителю тоже потребуются средства. Я вижу два вида резервов – либо накопленные собственные средства, тогда их нужно помочь сформировать, или же это страховые выплаты и субсидии на переоборудование.
— В прошлом году ваша компания увеличила выручку на 79 процентов – за счет чего произошел такой рост?
Сергей Басов: Мы очень долго работали на нишевых культурах, а в последнем сезоне переориентировались на пшеничный рынок и на большие поставки. Для этого была благоприятная логистика и подготовленная команда. В этом году мы будем рады, если нам удастся остаться близко к прошлогодним показателям, хотя рентабельности такой, конечно, не будет. Мы не думаем сейчас о заработках, думаем больше о сохранении своих возможностей на рынке. А для многих, я думаю, вопрос будет стоять о выживании. Ведь в ноябре перевозки по реке остановятся – на экспортные операции осталось очень немного времени.
— А вы согласны с тезисом, что в новом сезоне самыми рентабельными будут нишевые культуры?
Ольга Басова: Знаете, пока мы занимались нишевыми культурами, они уже перестали быть нишевыми. Мы первые начинали заниматься русскими твердыми сортами пшеницы – это была нишевая культуру в связи с очень маленьким производством. Но российские фермеры научились ее выращивать, и она перестала быть нишевой. Уже все игроки занимаются чечевицей, горохом, твердыми сортами пшеницы. Так что вывод о том, что в этом сезоне основная доходность будет связана с нишевым культурами, не столь однозначный.

Поделиться
— Глава правительства Михаил Мишустин оценивал в одном из выступлений мощности по перевалке, созданные в стране, на уровне 80 млн тонн. При каких условиях можно было бы загрузить такие мощности? Это реально вообще?Сергей Басов: Я думаю, что увеличение объемов российского экспорта – реальная, но многоуровневая задача. Мощности по перевалке есть, и они растут. Объемы надо произвести, сформировать. Наша главная проблема – логистика, это все знают. И фрахт сложный, и железнодорожные перевозки работают все время с пробуксовками, и автоперевозки сложные в связи с тем, что очень много игроков обанкротились. Логистику надо построить. Например, создавать зерновые хабы в странах, которые много покупают. Много идей есть. Сейчас мы выходим, например, на Балтийские порты. При сегодняшней цене фрахта на Юге, отгрузки с балтийского моря не сильно будут отличаться по цене.