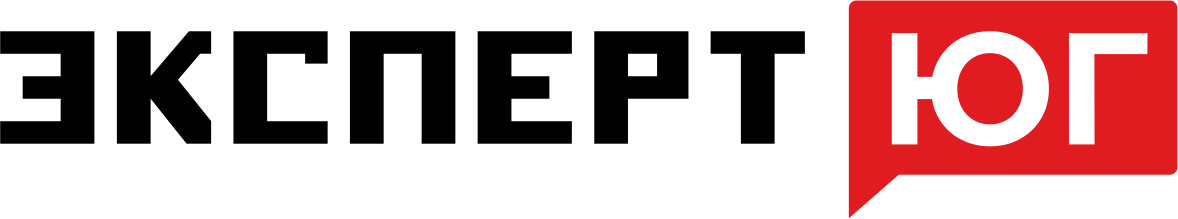Поделиться
Эпоха Людовика XIV кончилась в XX веке
Мало кто из неспециалистов знает, что языковая норма возникла поздно — в эпоху становления абсолютных монархий в национальных государствах. Точкой отсчёта можно считать эпоху Людовика XIV, у нас — эпоху Екатерины, когда государство активно занялось регламентацией языка сверху, имея для этого все инструменты. Именно тогда (в 1783 году) по образцу Французской академии была создана Императорская Российская академия, которая, в отличие от Академии наук, сосредоточилась исключительно на русском языке и русской словесности. В 1794 году вышел первый академический словарь русского языка.Плоды этих начинаний трудно переоценить. И всё же зададимся вопросом, что было до этого? Царил хаос? Нет, до этого язык тоже культивировался, но по-другому. Красноречие на Руси возникло в одиннадцатом веке, то есть за семьсот пятьдесят лет до того, как язык начали регламентировать сверху. Успех торжественного красноречия Киевской Руси был впечатляющим. Что касается русской классики, то тот свод правил, на котором покоится сегодняшняя орфографическая норма, вышел лишь в 1956 году, то есть много позже эпохи Пушкина и Лермонтова, больше чем через полвека после Чехова и уже после смерти Бунина. Воистину кодифицированная, то есть записанная, норма возникла поздно.
Любой филолог знает азбучную истину: талантливые писатели создают образцовую речь на национальном языке, авторитетные учёные составляют на основании этой речи представления о норме, а могучие чиновники благословляют кодификацию нормы и бдительно следят за исполнением правил. В результате возникает литературный, «правильный», кодифицированный язык, который всеми воспринимается как образцовый. Есть, конечно, и другие формы языка: диалекты, на которых говорят (пока ещё) в деревнях, просторечие, которым пользуются люди, недобравшие (пока ещё) культуры, и жаргон отдельных слоёв населения (который не делает погоды). Однако далеко не все филологи и не сразу заметили, что эта идиллия во второй половине двадцатого века стала стремительно разрушаться. И не только у нас.
Изменилось всё. Новая литература на национальных языках нигде не выдвигает таких писателей, язык которых безоговорочно принимается обществом как образцовый. Классическая литература перестаёт играть роль нормализатора сразу по двум причинам: сокращается число её читателей, жизнь всё дальше уходит от её реалий. Бал правят СМИ, а не художественная литература. Авторитет справочников резко падает под давлением прагматики: «Зачем мне норма, если я и так добиваюсь своей цели?» И всё меньше остаётся инструментов для регламентации речи сверху. Нельзя приказать писать правильно пользователям глобальной сети, как нельзя было велеть говорить правильно каждому жителю какого-нибудь медвежьего угла. Но отличие сети от медвежьего угла в том, что написанное не по нормам орфографии потенциально могут прочесть сотни миллионов людей, а читателей безграмотных постов значительно больше, чем читателей классической литературы и несопоставимо больше, чем читателей вдумчивых словарей и справочников.
Все эти проблемы, повторяю, существуют не только у нас, но в каждой языковой культуре есть своя специфика их протекания. У нас этот процесс совпал с культурным сломом конца двадцатого века. Но эпоха Людовика XIV окончилась повсюду.
Правильно — неправильно,выгодно — невыгодно, конструктивно — деструктивно
Зачем надо говорить правильно? Научный ответ на этот вопрос был получен только в прошлом веке. Ученые Пражского лингвистического кружка показали, что, соблюдая литературную норму, мы получаем гибкий язык, на котором можно говорить обо всём и передавать собеседнику любые нюансы смысла. Нелитературный язык просто-напросто грубей и поэтому хуже. Так была выдвинута идея целесообразности нормы. Соблюдать норму оказалось выгодно. Если бы мы совершенно забыли литературный язык и перешли бы на уголовный жаргон или мат, вскоре прекратило бы существование хоть сколько-нибудь сложное производство, а семейная жизнь вряд ли была бы счастливой. Короче говоря, оскудение языка привело бы к нашему одичанию, к вырождению социума.Однако в жизни не всё так просто, и никто от литературного языка целиком не отказывается. К тому же в представлении о целесообразности, выгодности нормы обнаружилась трещина. Дело в том, что есть разница между тем, что выгодно говорящим сию минуту, и тем, что выгодно им как языковому коллективу в далёкой перспективе. И то, и другое — выгода, и то и другое прагматично. Я называю первое ближней прагматикой, а второе — дальней. Обратимся к примеру.
Вы хотите рекламировать товар, а ваш потребитель — тинейджеры. В этом случае вам подойдёт рекламный слоган, написанный на молодёжном жаргоне. Хорошо даже, если реклама будет грубой и агрессивной, вроде действительно существующей «замочи скуку». Всё это вполне целесообразно, выгодно, а значит, выходит, и нормально, более того — правильно. Но всё это лишь с точки зрения ближайшей цели, ближней прагматики. С точки же зрения общей экологии языка, с точки зрения дальней прагматики это не только неправильно, но и нецелесообразно, потому что разбалтывает общение, понижает планку культуры, поощряет языковую агрессию, от которой очень недалеко до агрессии настоящей. Нам всем как языковому коллективу это оказывается невыгодным. Так обнаруживается противоречие между ближайшей целью общения и целью дальней — общим коммуникативным благом.
Это противоречие ставит нормализатора в тупик. Что ему защищать: норму, которая невыгодна самим говорящим, или право говорящих нарушать норму там, где заблагорассудится, лишь бы этого им хотелось? В первом случае он идёт против воли носителей языка, ставя барьеры, которые они всё равно будут ломать. Во втором случае он просто благословит отмену нормы, что для нормализатора довольно странно. Всё, что говорится сегодня о «гибкой норме», о «разрешительной норме», о том, что нарушение нормы — тоже норма, свидетельствует лишь о том, что в головах нормализаторов царит некоторое смятение. На практике работают только предельные запреты, вроде запретов на нецензурную брань, которые можно поддержать законодательно. Но к каждому слову языка прокурора не приставишь, язык — штука тонкая. Меж тем как общее коммуникативное благо — вещь вполне ощутимая, а не выдуманная нами к подвернувшемуся случаю.
Что такое общее коммуникативное благо? Мы все стремимся к тому, чтобы нам было комфортно, спокойно жить, в частности, чтобы общение было комфортным, удобным, чтобы люди не бросались друг на друга как цепные собаки, чтобы умели договориться, чтобы обычная встреча с посторонним человеком не вызывала напряжения, не повергала в ступор. Это и есть общее коммуникативное благо. Возможно ли его достижение там, где нормализаторы пребывают в растерянности, а нормализация сверху не работает? Я думаю, что вполне возможно, потому что раньше, когда не было писаных правил, а неписаные были весьма гибки и разнообразны, добиться этого коммуникативного блага удавалось. На заре европейской цивилизации греки и римляне научились преодолевать языковое варварство, научились культивировать язык без его жёсткой стандартизации и без централизации культурных учреждений. Так было при империи, при республике, при олигархии и при демократии. Приветствовалось то, что было красиво, отвергалось то, что было безобразно. Но, учитывая своеобразное понимание красоты греками и римлянами, это понятие предполагало ещё и порядок: можно сказать, что принималось то, что было конструктивным для языка и общения, а отвергалось то, что было заведомо деструктивным. Как, однако, это делалось?
Никто не виноват. Что делать?
Теперь мне хочется уделить минимум внимания ответу на вопрос: «Кто виноват?». Лично я не вижу вообще ничьей злой воли. Жизнь культуры всегда была драматичной, и драма культуры массового общества не первая и не последняя в её судьбе. Нет врага ни в Кремле, ни за океаном. Жить с такой мыслью для многих непривычно, но приходится.В Англии не было ни Октябрьской революции, ни перестройки, а с языком там происходят аналогичные процессы. Конечно, всюду своя специфика. Революция привела к власти большевиков, которые проводили гиперактивную языковую политику, занимались жёсткой нормализацией и стандартизацией языка, обучали население грамоте, а с нею внушали и свою идеологию. Но жёсткая централизация имела оборотную сторону, даже если отвлечься от идеологии, внедрение которой с годами принимало всё более карикатурные формы и вызывало смех у населения. Стандарт поддерживал язык официальный, язык во многом идеальный, оторванный от жизни, а на практике общение сплошь и рядом велось на языке сниженном, теневом. Теневая экономика, блат, называемый на научном языке административным рынком, порождали и теневой язык. Насильственно и грубо внедряемая идеология порождала соблазн высмеивать её. Когда запреты спали, теневой язык хлынул на страницы газет и полился с экранов телевидения. Это была эпоха так называемого «стёба», когда в насмешке над надоевшим языковым стандартом виделось нечто конструктивное.
Дальше начали действовать другие процессы. Распался Советский Союз, в котором русский язык выполнял роль общего языка, того, что называют «лингва франка». Роль эта изначально трудная, что хорошо знают носители языков бывших метрополий. Когда же эту роль перестал поддерживать центр, мы получили то, что сегодня стали называть разновидностями русского языка, которых в одной из недавних работ насчитали целых пятнадцать. Это не по числу республик — сюда входит, например, русский язык русских, долгое время живущих за рубежом, русских, живущих в ближнем зарубежье, и т. п.
Но главный вопрос, конечно, другой: что делать? Попробуем сначала ответить на вопрос, что делали до нас. Мы не просто так вспоминали классическую античность, период становления большой языковой цивилизации. Как культивировали язык, не имея ни средств, ни желания стандартизировать его? Инструментом оттачивания речи выступала тогда риторика, изучение которой было делом добровольным, но сулящим выгоды. В позднем Риме она, например, открывала дорогу к занятию высших государственных должностей.
Риторика в те времена давала рекомендации, а не предписания. Но эти рекомендации были не совсем тем, что сегодня называют рекомендательной нормой. Если я скажу, что рекомендую слово «кофе» относить к мужскому роду, но допускаю отнесение его и к среднему, этим я вряд ли кого-то осчастливлю, разве что огорчу тех, кто с гордостью говорил «мой кофе».
Риторика фиксировала удачные прецеденты речи, давала им названия и включала их в свои списки: хочешь — пользуйся. Вот, например, красивое выражение: «Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть». Риторика фиксировала этот прецедент, придумывала для него название: в данном случае «хиазм». Название давалось для того, чтобы явление не забылось. Затем хиазм включался в список риторических фигур. Так действовала риторика. А ещё она могла фиксировать и неудачное выражение, такие выражения назывались солецизмами. Когда мы сегодня говорим «масло масляное», мы обозначаем этим солецизм, научное название которого — тавтология.
Риторические списки ненавязчиво ориентировали говорящего человека. Всё держалась на красивых примерах, на одобренных прецедентах. Это очень похоже на прецедентное право в юриспруденции. Когда риторика вернулась в гуманитарное образование, это её свойство (порождать списки образцов) была забыто. В риторических списках справедливо увидели донаучное мышление, слабую классификацию и прочее, но не увидели их функции. Иными словами, мы попытались подстроить списки риторических фигур под то, к чему привыкли, под стандарт. Не мы первые поступили так с риторическим наследием. Так поняли его ранние стандартизаторы и нормализаторы, составители придворных декорум-риторик. Эти риторики носили характер предписаний.
Вопрос, однако, в том, как можно воспользоваться опытом прошлого, как культивировать язык в условиях его заведомо неподконтрольного употребления. Создавать аналогичные списки? Возвращать новую риторику в старое русло? Конечно, вернуться в прошлое невозможно, но кое-что заимствовать можно. И это прежде всего переход с ведущих в тупик рельсов стандартизации на путь создания и закрепления гибкой, ориентированной на разные сферы общения системы прецедентов успешной речи. Речь идёт о каталогизации удачных образцов речи в любой сфере коммуникации, о создании чего-то вроде атласа или атласов различных стилей общения, не повторяющих грубую и устаревшую сетку так называемых функциональных стилей (разговорный, публицистический и т. д.). Такой атлас можно создавать в электронном виде посредством краудсорсинга, на манер Википедии. Другое направление — это языковая рефлексия, сопровождающая эти прецеденты, то есть своего рода критика, аналогичная литературной критике, но касающаяся самых разных сфер деятельности. Создание прецедентов нельзя переложить на государство и его учреждения. Это долг всего пишущего класса, включая и тех, кто пишет в интернет, размещает свои видеосообщения и т. п.
Создание прецедентов конструктивного речевого поведения, несомненно, едва ли не главная миссия СМИ — средств массовой информации, или, в более адекватных терминах, средств массовой коммуникации. Также и шоумен должен взять на себя часть ответственности за общую экологию языка хотя бы в качестве налога на самопрезентацию.
Здесь мы впервые прибегли к слову «должен», к которому надо относиться с большой осторожностью: во-первых, потому что за этим часто стоит переложение долга на других, во-вторых, потому что, если мы пишем «должен», мы должны написать, что надо сделать, чтобы это должное выполнялось. Я думаю, что критический анализ того, что происходит в поле языковой коммуникации, анализ не только содержания, но и формы речи может стать мощным стимулом языкового самосознания. Подобно тому, как литературоведение традиционно включает в себя не только науку о литературе, но и литературную критику, было бы полезно сегодня иметь лингвистическую критику. Многие лингвисты охотно выступают в СМИ по вопросам языка, но давать оценки речевым произведениям сегодня не принято. В условиях пошатнувшейся нормы хорошим тоном становится некая надмирная позиция лингвиста. Это, по-видимому, не совсем то, чего требует время. Лингвистическая критика принесла бы свои плоды, особенно в том случае, если бы это были не рассеянные замечания, а анализ какого-то издания, сайта.
Наше общество готово к языковой рефлексии, о языке говорят охотно, придумывают анекдоты, создают игровые формы языка, вроде широко известного «олбанского» и других. Этот интерес не праздный, он вызван распутьем, на котором мы стоим: продолжать ли культивировать язык с помощью насаждаемой сверху нормы или пробовать и другие формы культивирования языка. Это вопрос ко всем. Как лингвист я предлагаю свою версию ответа.