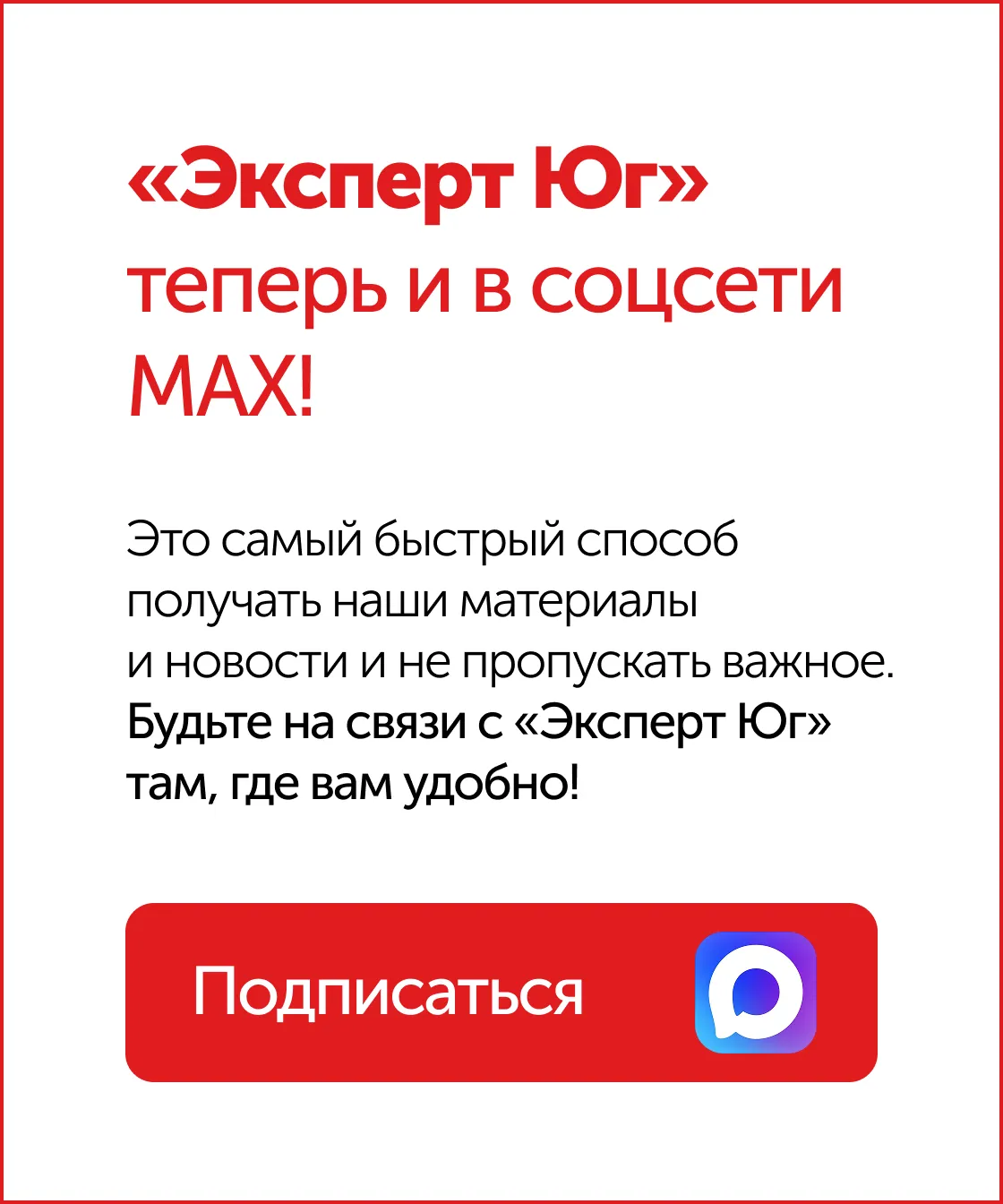Краснодарский художник-пейзажист Владимир Мигачев проводит свои выставки раз в год//Фото: "Эксперт Юг"
В краснодарской мастерской художника Владимира Мигачева на стене висят для листа формата А4. На них схемы залов тех галерей, для которых готовятся ближайшие выставки, с указанием размеров. На одном из листков написано Art story, январь 2022. Эта выставка открылась, она называется «Холодный фронт», ее можно посмотреть в Москве до 27 марта. Материал для нее готовился три месяца. Мигачев работает быстро. Он признается, что в его понимании идеальная картина - та, которая делается за полчаса, единым энергетическим выдохом. «Но в любом случае, говорит художник, стараюсь заканчивать картину в один подход». Конечно, потом еще случаются доработки и переработки, но принципиальная судьба картины определяется в один подход.
Владимир Мигачев родился в 1959 году в Орловской области, но семья переехала в Краснодарский край. В 1981 году закончил худграф Кубанского государственного университета, затем преподавал черчение в школе, параллельно занимаясь живописью. До середины 90-х работал в технике абстрактной живописи, но действительно авторскую манеру сформировал в жанре пейзажа. Впрочем, пишущиеся без натуры пейзажи Мигачева с их форсированным цветом отражают, с одной стороны, многие школы– от абстракции до так называемого ар брют, с другой – выражают авторское осмысление современности. Разговор с художником состоялся в рамках проекта о лидерах культурных индустрий юга России, поддержанном Фондом культурных инициатив и КБ «Центр-инвест».

Природа – свидетель жизни, в которой мы существуем
— У вас открылась выставка «Холодный фронт» в Москве – в чем ее замысел?
— В книге французского философа Жан-Пьера Дюпюи «Маленькая метафизика цунами» рассматриваются проблемы техногенных, социальных и природных катастроф; он приходит к выводу, что виновата не природа - проблема в самом человеке. От цунами в Тайване пострадали в основном туристы – потому что коралловые рифы уничтожили, манговые леса вырубили, построили туристические объекты. Пришла волна – все смыло. Когда я начал делать этот проект, думал, что он про природу, но постепенно понял, что про человека. Изменение климата – это проблема человека, а не природы.
Я занимаюсь пейзажем. По классификации французской академии еще XVII века пейзаж – это низшее искусство. Натюрморт, пейзаж, портрет, потом уже картина. Пейзаж в нашем восприятии примерно на том же уровне и остался. Правда, наше представление о том, что такое картина, сильно изменилось. Пейзаж был моим сознательным выбором. Вокруг многое происходит, но ты приходишь в лес и видишь, что он существует по каким-то другим законам. И природа – свидетель всей той жизни, в которой мы существуем. Все, что происходит в социуме, тут же отпечатывается в пейзаже.
— Сколько вы выставок в год в среднем проводите?
— Одну. Одна выставка – это примерно тридцать работ. Выставка не всегда проект. Проект – это исследование. В «Холодном фронте» нет даже этикеток под работами, потому что все они объединены одной темой. И за каждой картиной своя проблемка в контексте холодного фронта.
— Я видел фото с этой выставки – в некоторые пейзажи вставлен какой-то персонаж современной массовой культуры. Например, клоун из романа Стивена Кинга. Они вам зачем?
— Да, клоун, но этот клоун – убийца. А напротив него в зале аниматор в костюме зебры. Причем аниматор нанесен на пейзаж в технике граффити. Это не живопись. Я резал трафареты, чтобы сделать это изображение. Я встретил одного такого аниматора в Питере: приехал поступать, но поступать не хочет – совершенно потерянный, оторванный от земли человек. Вот эту оторванность мне важно показать. Ведь лет через двадцать деревня, видимо, вообще исчезнет. Сейчас уже говорят о шестнадцати городах-миллионниках и о том, что в год исчезают сотни деревень.
— Как вы пришли к пейзажу?
— Если сесть на машину и поехать в Ростов, что мы увидим? Слева и справа какие-то брошенные коровники, АЗС – это девяностые. Подъезжаешь – начинаются космические торговые центры, которые вторглись в пространство – это уже пришли двухтысячные. Микрорайон Музыкальный – это тоже проблема своего времени: деньги решили все, шанхай был заложен изначально. У меня был проект про этот район, назывался «Пустота» - зритель заходил в зал и видел цитаты из «Тошноты» Сартра написанных на картонных коробках. По замыслу, в этот момент он начинал ругаться на то, как низко пало современное искусство. Затем он проходил между рядами коробок до конца зала, разворачивался – и видел, что на обратной стороне этих коробок пейзажи, вдохновленные микрорайоном Музыкальный. В этот момент его впечатление меняется.
В конечном счете как писатель пишет один текст, так и художник пишет одну картину. Моя картина называется «Край». Край – это, во-первых, территория, на которой я живу, во-вторых – это экзистенциальное состояние. Я вообще считаю, что экзистенциализм – русская философия. Ты свободен, тебе страшно – и по-другому не будет. Мы все хорошие люди, дружим и целуемся. Но возникает ситуация – и один другого предает. Вот эта точка невозврата, dead line – в нашей стране она ощутима постоянно. А пейзаж – отражение социума, в котором мы живем. По пейзажу можно сказать, как здесь живут люди, как живет страна.
Соответствие стандартам – это не для художников
— Что такое сегодня успешный проект в искусстве? Его какими критериями надо измерять?
— Только не деньги. Для художников, конечно, деньги важны. Но это домоклов меч, который будет висеть всю жизнь, поэтому про это вообще лучше не говорить.
Откройте в интернете сейчас: Андрей Кузькин, премия Кандинского, работа «Молельщики». Это вылепленные из хлеба, как это делают на зоне, фигуры молящихся, помещенные в бетонные ячейки. Вы попадаете в пространство, которое состоит из этих ячеек и фигур. Эти бетонные блоки он сам отливал в маленькой мастерской в Москве, это колоссальная работа. Когда вы оказываетесь в этом пространстве, там без слов все понятно. Вы просто оказываетесь полностью захвачены. Тут нет критериев нравится – не нравится, вы просто сразу ощущаете воздействие пространства.
— Работа каких институций сегодня наиболее важны для вас как художника?
— Есть очень хорошие арт-резиденции – например, «Голубицкое» на Тамани или «Новый свет» в Крыму. Есть очень хорошие галереи, но в России их все равно очень мало. В таком городе, как Краснодар, в европейском городе может быть 30-40 галерей. Мало институций, фондов, которые позволяли бы художнику иногда заниматься чистым искусством и не думать про бабки. Художнику надо давать возможность делать некоммерческие проекты. В противном случае одна половина будет розы рисовать на продажу, а вторая половина – «ходить без уха», как Ван Гоги. Художники в России не вписаны в рынок. В мире арт рынок есть, а здесь он все формируется и никак не сформируется. А на немецком, французском рынке ты всегда будешь иностранцем.
Когда открылся железный занавес, все коллекционеры и художники бросились сюда, Все сгребалось и скупалось – Европе тоже было интересно, что тут происходит. Но к 1996 году это все постепенно сошло на нет. Перестали приезжать. Мы тут сидим, такие хорошие и интересные, а их нет. Наши художники посидели, подумали, собрали работы, сами поехали. А им объяснили: ребята, у нас свой рынок, мы посмотрели на ваш, мы все поняли.
— А что им стало понятно?
— В течение пяти лет они смотрели на российский рынок. Самое ценное купили. Дело в том, что семьдесят лет искусство развивалось по своим законам эволюции, а у нас был соцреализм. Я хорошо помню эти зональные, республиканские выставки, беспокойство: возьмут-не возьмут. Представители крайкомов проводили предварительную экспертизу. Там до смешного доходило. Помню, как они возмущенно остановились у большого портрета бригадира, за спиной черная земля, весна… Художника спрашивают: «Это что ж вы такое написали? А рис где?! Почему поле черное?!» Так на следующий день на этой картине рис уже колосился вовсю. И это до сих пор нам аукается. Реализм народ понимает. Все, что называется contemporary art, людям малопонятно.
— А себя вы с contemporary art как соотносите?
— Вообще к современному искусству можно относиться «плохо». Современное искусство – это пена. Но как раз здесь формируются жемчужины нового искусства. За современным искусством надо следить, заниматься им.
В далёкие 1970-е, в 15-17 лет определяешься, думаешь, что раз у тебя есть берет, то ты художник. А у меня берет, кстати, был. А потом приходит понимание, что искусство - это не только ремесло. И в голове просто все валится. И слава богу, если ты это понимаешь, - многие, процентов девяносто, этого не понимают. Они до сих пор в беретах, толстовках – и ненавидят все новое.
— Разве с тех пор все не поменялось уже несколько раз?
— А это процесс очень живой, настолько, что меняться все может каждый год.
— Но все же радикально технику вы меняли не каждый год.
— Это не я – просто «живопись умерла». Это тезис конца восьмидесятых. Представляете, что это значит для художников в беретах? Жизнь закончилась! Надо понимать, что живопись – это не пятно в интерьере. Искусство – это философия, работа с проблемой. А тут оно зашло в тупик и стало придатком дизайна, стало прикладным. Это была борьба за чистое искусство. В такой борьбе художники начинают искать авторские техники. И каждый решает проблему внимания. Вы через месяц, возможно, ничего не вспомните из моей мастерской. А теперь представьте, что я беру сейчас стул и бросаю его в стекло. На всю жизнь запомните. И это структура, рабочий механизм, Дали им очень хорошо умел пользоваться – он был в этом первым. Вопрос не в открытиях или качестве, а в индивидуальности, запоминаемости, отличии от других. Соответствие стандартам – это не для художников. Ты должен быть другим, а если не можешь – «бей стекла», может, обратят внимание.
— Так, акционизм – это от недостатка таланта?
— Нет, акционизм требует мужества. Для меня акционисты — художники. Марина Абрамович, 1999 год, она приезжает на Венецианскую биеннале, Белград бомбят. Что в этой ситуации художник может сказать на европейской площадке? Она заказывает машину говяжьих костей с бойни, насыпает в павильоне огромную кучу, надевает сербский национальный костюм, садится и чистит эти кости – неделю не выходит. И всем понятно, что такое война. Или лет десять назад был проект - Ай Вей Вей, Tate Modern, , огромное выставочное пространство он засыпает подсолнечными семечками, толстым слоем. И все. Казалось бы, ну привез семечек. Но каждая семечка - фарфоровая и вручную расписанная китайцами в деревнях. И тогда становится понятно, что такое Китай. И Петр Павленский – это тоже явление. Возможно, он непонятен, потому что очень уж экстремальный. Зашивание рта, прибивание мошонки – это народу не очень близко. Но на самом деле это нас прибили к мостовой, прибили и держат. Мы сидим вот за столом, а что-то в нас прибито, напоминает, чтобы поменьше рот открывали. Эти акции на слуху.
Мне шестьдесят два – я до сих пор хочу быть художником
— Многие художники не имеют возможности быть только художниками – они работают где-то еще. Когда у вас был момент, когда вы стали работать только художником?
— Художник - это не профессия, это образ жизни. На самом деле искусство требует: либо все, либо ничего. Компромиссов оно не выносит. Если ты хочешь чего-то добиться, ты должен отдаться этому весь. Если ты думаешь делать что-то для денег, а что-то для высоких целей, то ничего не получится – одно всегда будет влиять на другое. Главный выбор в искусстве – «прыгнуть». И я гарантирую, что ты на 99 процентов разобьешься. Но один шанс есть. Не воспользоваться этим шансом нельзя.
— И в какой момент вы почувствовали, что взлетели?
— А я не взлетел. И не дай бог это почувствовать. Сомнение остается до конца. Я в шестом классе уже понял, что хочу быть художником. Сейчас мне шестьдесят два – я до сих пор хочу быть художником. Сначала ты ищешь причинно-следственные связи вокруг, потом начинаешь ковыряться в себе. А это совсем не просто.
— Но все же есть этап социализации в качестве художника. В какой момент он произошел?
— Наступает момент, в который ты начинаешь быть чем-то. Круг художников, критиков тебя должен встроить в систему. И вот этот круг тебя сканирует, ищет твое место по принципу сходства с другими. Как правило, это очень тяжелое время для художника, многие ломаются, руки опускаются. Москва притягивает людей, каждый год появляются молодые и перспективные. Но смотришь: год, два, три – и человек исчезает. А если выдерживаешь, то в какой-то момент ты приезжаешь – и тебе аплодируют.
— А когда была первая выставка, когда вы почувствовали, что вас приняли?
— Даже не знаю. Начало двухтысячных. Ситуация как-то раз – и перевернулась: приняли, заметили.

Надо самим художникам включать мозги
— Как оживить культурный процесс в регионе?
— Сейчас зритель идет на выставку неготовым. Он не понимает, не видит, потому что он не насмотрен. Насмотренность очень важна. Каждый художник должен готовить для себя публику – общаться, рассказывать. Отсутствие профессиональной критики приводит к появлению провинциальной "гениальности" . В Краснодаре все художники «гениальны". То же самое в Воронеже, Курске и т д. И тексты здесь требуют к выставкам с эпитетами «гениальный», «известный», «всемирно известный» - охренеть.
Проблема Ростова и Краснодара - среда. Выставка не должна открываться в среду днем. Это должен быть вечер, потому что есть культура вернисажа, на котором надо показать себя. В Европе есть эта культура. У вас может быть вещь только для вернисажа. Здесь этой культуры нет напрочь. Второй момент – общение. У нас это выглядит так: пришли, поговорили, пошли бухнули с учетом российского правила пятого квартала – знаете это правило?
— Нет.
— О выставке и художнике можно начинать говорить плохо, только отойдя от нее на пять кварталов, до этого нужно только хвалить.
Дальше, если я выставляюсь в Москве, завтра будут рецензии. Это очень важно для художника. А здесь вы можете получить звонок из музея: «Вы не забыли, что у вас во вторник выставка закрывается? Если не заберете во вторник работы, выкинем их на улицу на хрен».
— Но что-то держит людей в регионе? Что?
— Нельзя здесь сидеть! Будешь старый брюзга, который не ответил на главный вопрос художника. Нас учат отвечать на вопрос «как?». Как только научился, начинаешь думать над вопросом «что?». Девяносто процентов на этом вопросе и зависает: рисуют сирень в плетеных корзинках. А есть вопрос, на который придется отвечать всю творческую жизнь — «зачем?»
Художники сидят и надеются, что кто-то придет и откроет его талант, что сейчас к ним придет галерея, чтобы его показывать. Никто ничего не будет делать. Надо все делать самому. И делать до тех пор, пока тебя не заметят. Пока о тебя не споткнутся. Когда споткнутся, тогда заметят. Это будет значить, что ты реально что-то сделал, и с этим уже можно работать. Так что прежде всего надо самим художникам включать мозги.
Есть регионы, в которых есть движуха. Например, галерея Х.Л.А.М. в Воронеже, вокруг которой объединилось много молодых художников. Но южная ментальность – это обособленность. Юг хорош по части бизнес-мобильности, здесь есть энергия «выросло-продать». В средней полосе или на Севере люди, например, стесняются продавать, выходить на рынок. Но зато там можно попросить – тебе помогут. Здесь собрать людей на "ратный подвиг" очень сложно.
Или есть «Непокоренные» в Питере, это пятнадцать мастерских, они очень классные. Конечно, нужна личность, которая способна объединить индивидуалистов. Объединять художников уже пробовали – каждый защищает свою территорию. Нужен куратор – институция, которая почти отсутствует в Ростове и Краснодаре. Нужен куратор, который понимает, как объединить разных художников в одном проекте. Но для этого он должен знать художников, знать их творчество, работы. Если я сижу в мастерской своего голландского приятеля-художника, то за день к нему человек шесть галеристов заглянет – они ходят по художникам, общаются с ними, они хорошо понимают, что и кому интересно. Чтобы наши сотрудники художественного музея к кому-нибудь вышли в мастерскую – что вы! Приползай на коленях, пиши заявку и стой в очереди – и никто даже смотреть не будет, что ты там рисуешь.
— Откуда берутся кураторы?
— Их готовят. А если нет куратора, значит кто-то их художников должен взять на себя эту роль. Важно, чтобы куратор был умным. Когда ко мне приходит доморощенный куратор и говорит, что есть вот такой проект, и от меня ему нужен портрет три четверти, я понимаю, что передо мной идиот. Так невозможно объединить людей. Поскольку все разные, куратор должен уметь находить проблему, которая над всеми этими различиями. Тогда каждый может работать над проектом, не изменяя себе. В идеале каждый художник работает со своим куратором, который его понимает. Например, «Холодный фронт» начался с осознания проблемы. Я начинаю писать пейзажи с наводнениями, пожарами. Потом мы пообщались с моим питерским куратором Настей, которая сказала, что это все круто, но однобоко, потому что проблема глубже. Она порекомендовала прочесть тексты Жан-Пьер Дюпюи. И внутри проекта появились три большие темы, которые мы выстраивали в экспозиции. Вот идеальная функция куратора, помимо того, что он берет на себя организационные вопросы.
— Сейчас власти начинают говорить, что люди приезжают в те регионы, в которых есть, что смотреть. В культуре сегодня увидели потенциал развития территорий…
— Не заблуждайтесь.
— Просто это пока не про нас, не про Юг. Но в мире и даже в России именно культурные проекты порождают какое-то движение. Что у нас могло бы такое движение создать?
— В Краснодаре есть Кубанский казачий хор – это профессиональный коллектив. Они прыгают так, что олимпийские чемпионы так не прыгают, они поют так, что никто так не поет. Но когда ты едешь в какую-нибудь станицу, видишь там раздолбанные убитые дома культуры. Мы развиваем народное искусство в то время, как по-настоящему народное у нас похерено. Может, часть средств отдать этим домам культуры, чтобы они могли нормально функционировать, чтобы сохранить ту народную корневую культуру?
Сейчас я вижу разговоры о каких-то новых структурах. При этом надо понимать, что актуальное искусство – это проблема времени, проблема того, что происходит сегодня. Вы считаете, вам государство даст сейчас свободно на эти темы разговаривать? Частные институции – дадут. Государство даст денег и будет командовать: вот эту проблемку мы не поднимаем, вот эту – можно, если причесать. Арт-кластер существует, например, в Калуге. Они занимаются всем, что про космос. Вот так, я думаю, это и может существовать. Про космос.
— Есть мировые тренды в искусстве, которые вас вдохновляют?
— Конечно. Знаете, как понять, что ты начал разбираться в искусстве? Ты посещаешь большую выставку — например, на FIAC в Париже — смотришь и говоришь: в следующем году должен покатить минимализм. Приезжаешь через год, смотришь и говоришь: ну я же говорил! Это момент, когда ты начинаешь считывать направление движения. После кризисного 2008 года как раз попер минимализм, его стало процентов шестьдесят на выставках. В обществе возникла некоторая растерянность. А абстрактный минимализм – это структурирование. И читаем манифест: на наших выставках не ищите ни людей, ни истории – мы ничего не рисуем, мы создаем пространство ритмом и цветом, чтобы вы сели и заглянули в себя. И сразу все становится понятно. Минималисты заставляют заглянуть в себя. Мне кажется, это до сих пор актуально.